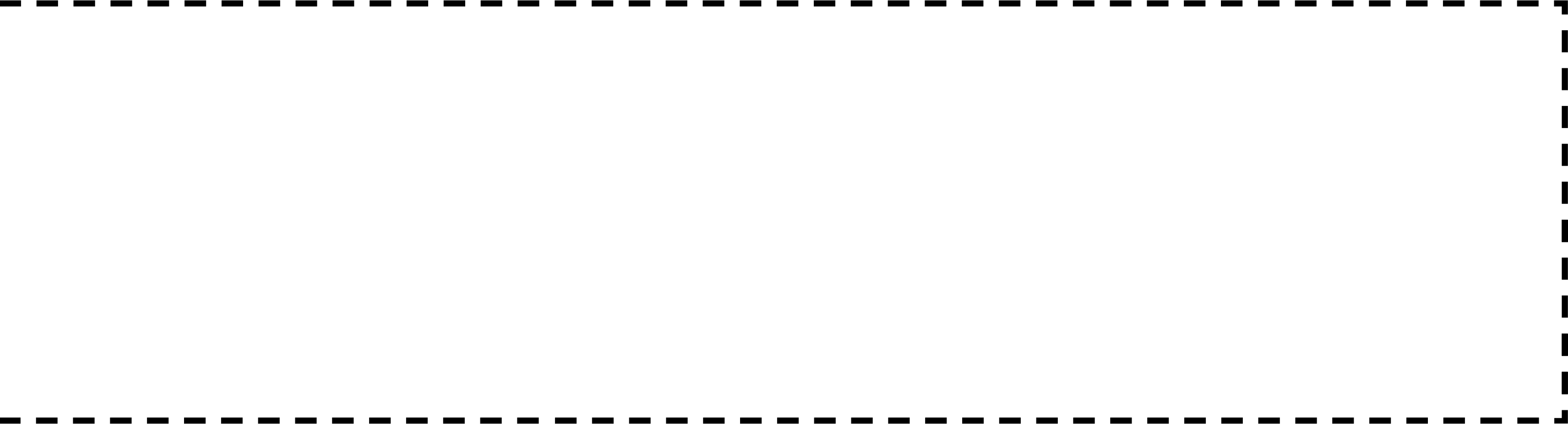
Разговоры о пустоте.
Что остается после ушедших людей в кинематографе
С 6 по 15 ноября в Доме культуры пройдет кинопрограмма «Истории с призраками», в которой главная роль отведена фантомам и воспоминаниям. В этом эссе Вячеслав Шутов размышляет о потере и памяти, а также о том, как пустота часто оказывается движущей силой.

Автор текста
Вячеслав Шутов — младший куратор кинопрограмм Дома культуры «
Воскрешение в памяти тех, кто уже не с нами, — достаточно частый мотив кинематографа. Можно вспомнить даже ранние киноэксперименты: в немом фильме Евгения Бауэра «Грезы» (1915) мужчина теряет жену и ходит по улицам, где призрак преследует его на каждом шагу. Способность к наслоению времен помогла кино стать именно таким видом искусства, каким мы его знаем: кино работает с монтажом, с возможностью наложения реальности в реальность, ритм на ритм, движение на движение, их соединение и сопряжение.
«Земляничная поляна» (1957, Швеция) Ингмара Бергмана
Когда близкий (или не близкий, но важный) человек уходит, то иногда кажется, что во Вселенной остается существовать пустое место по его контуру. Эту «оформленную пустоту» обычно видит тот, кто этого человека любит или продолжает его помнить.
В фильме «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» пустота обретает тело (ушедшая семья собирается за столом), и зритель на секунду начинает верить, что память возможно материализовать.
Такая пустота, напоминающая о важных для нас людях, как будто бы образуется в момент потери у каждого, когда видимый мир сжимается в одну из последних появившихся пустот. Яркие впечатления, воспоминания, заботы — вся жизнь мысленно посвящается тому или иному человеку, который становится целым миром. Спустя время боль от потери немного отступает, как будто выцветает кинопленка, а затем все повторяется заново: ты теряешь следующего. Внешний мир будет так же дробиться на многие [исчезнувшие] миры, но память последней потери начинает переживаться острее.
Все фильмы программы «Истории с призраками» можно и нужно смотреть и пересматривать в разном возрасте. Это именно та тема, которая с годами будет переоткрываться по-новому, с новыми степенями [глубины].
Эта программа объединяет фильмы мировой классики, в которых, как следует из названия, сюжет строится вокруг образа фантома. А с помощью него уже рисуется множество поворотов сюжета, включая возможные варианты будущего и пропущенные повороты мировой истории.

«Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010, Таиланд) Апичатпонга Вирасетакула
Неожиданным образом пустота, которую ты ищешь в окружающем мире, обнаруживается в итоге в тебе самом и, замыкая круг, становится движущей силой дальнейшего творческого поиска. Именно на этом «пустотном» двигателе, кажется, работают очень многие режиссеры этой программы. И остается отдать должное их смелости, потому что боль, которой эта пустота наполнена, бывает сложно выносить. Тем более сложно воплощать импульс этой болезненной пустоты и давать ей имя. Режиссер вынужден одновременно и чувствовать, и смотреть со стороны: что именно опустело, что он может сделать с этим? Ответы у каждого находятся свои: иногда один, иногда несколько.
Оптика призрачности в «Счастливых днях» Алексея Балабанова создает интересный эффект. Кажется, что все происходящее нереально. Даже главный герой напоминает призрак: он постоянно ищет себе место, пусть даже угол, и, найдя его, вновь и вновь обретает новое имя.

«Йелла» (2007, Германия) Кристиана Петцольда
В ядре каждой ленты нашей новой программы зияет эта ищущая и движущая пустота. В фильме «Деказия» она воплощается в распадающейся форме, в «Земляничной поляне» — в расслоении времени, в «Заставе Ильича» — как ушедший и возвращающийся ответ. В «Дядюшке Бунми» она материализуется как ответ на пустоту, а в «Счастливых днях» это ищущая сила дома и угла, имени, «С востока» — каждый носит в себе призрака уходящей истории, а в «Румянах» история вернется призраком в новое время.
Призрак как метафора становится возможностью выйти из тела, забраться в эту пустоту и в ней как будто немного «погулять», с чем призраки, кстати, справляются куда лучше, чем живые. Поэтому нам важно за ними наблюдать, смотреть, куда они идут и стремятся, куда хотят зайти и куда их пропускают.
Интересно, что появление призрака отца в фильме «Застава Ильича» Марлена Хуциева в некотором роде сделало сам фильм призраком: разговор с отцом главного героя подвергся цензуре, фильм был изъят из проката.

«В городе Сильви» (2007, Испания) Хосе Луиса Герина
Призраки появляются не просто так. Типология фантомов обширна: есть призраки, которых ты ждешь, но, очевидно, никогда не будешь готов к тому, что рано или поздно случится. Иногда фантомы обращают наше внимание на важную пустоту, а временами оказываются простой иллюзией. «В городе Сильви» главный герой точно знает, кого он хочет догнать, но в итоге оказывается, что ищет он нечто совсем иное. И это очень интересный момент для отдельного анализа: когда ты сам себе создаешь призрака, куда ты готов последовать за ним?