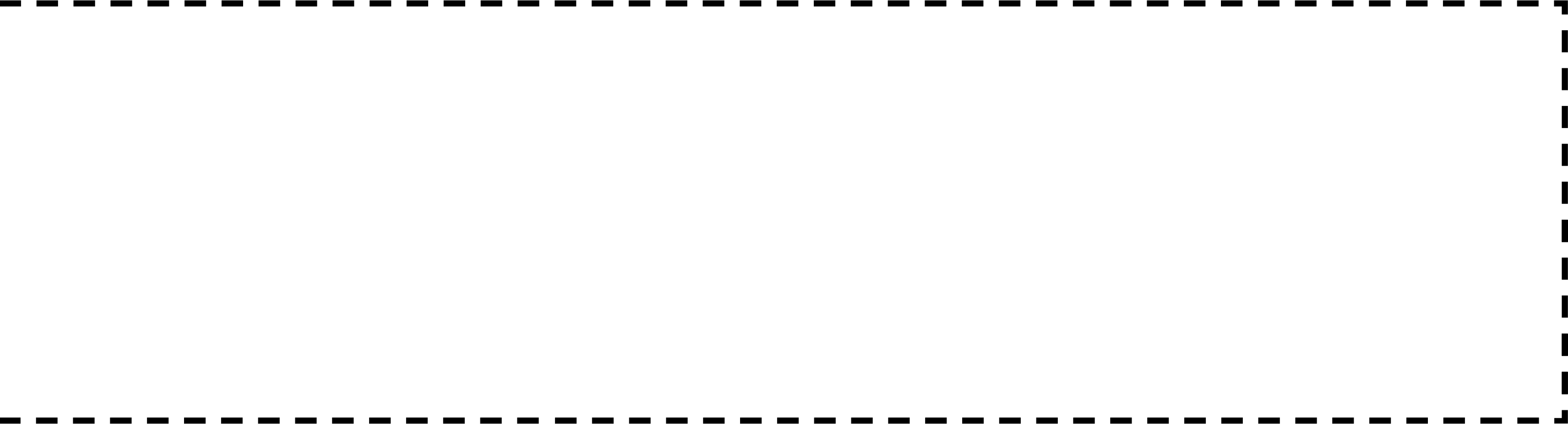
Как менялся образ глухого в литературе за последние три века
От немых персонажей как олицетворения изоляции и бесправия — к живым людям со своей позицией. Рассказываем о том, как менялись книжные образы глухих героев, начав с Ивана Тургенева и закончив комиксами.






Фото: Аня Завозяева
Иван Тургенев, «Муму» (1852)
Автор
Полина Синева — сценарист, шоураннер, сурдопедагог, исследователь репрезентации глухих в массовой культуре, глухая с детства. Активный участник постоянной программы «
Рассказ «Муму» породил множество мемов, анекдотов, пародий и даже становился источником вдохновения для авторов хорроров. Такое обилие отсылок на это произведение, цитат из него позволяет считать главного героя, Герасима, одним из самых влиятельных представлений образа глухого в художественной литературе. Но его образ вовсе не устраивает самих глухих, которые уже достаточно давно обладают своим голосом.
Глухих в России начали официально обучать только в начале XIX века в крупных городах, а в деревнях они не получали никакого образования. Поскольку жили глухие в основном среди слышащих, то зачастую не владели никаким языком, ни национальным, ни жестовым, и были глухонемыми в полном смысле этого слова.
17–19 октября 2025 года в Доме культуры «

За последние три года в «
Фото: Аня Тодич
Дворник представлен в рассказе как былинный богатырь, человек, близкий природе. Мощный и молчаливый трудяга, он быстро исполняет приказы барыни. Окружающие общаются с Герасимом ситуативными жестами, что нельзя назвать полноценным языком, и воспринимают его как «глухаря», «существо бессловесное», «зверя, идола», но одновременно уважают за силу и строгость. Писатель не выходит за рамки тогдашних представлений о глухих: периодически в рассказе проскальзывают обобщения: «Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело». Такое описание не всегда соответствует действительности — ведь все глухие по-разному выражают свои эмоции. Фраза «протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди» в наше время воспринимается как клише: в текстах о глухих часто противопоставляют крики и другие звуки тишине и безмолвию.
Глухота Герасима в совокупности с немотой — то, что отдаляет человека от слышащих людей, сближает его со столь же бессловесной природой. Логично поэтому, что герой «Муму» не прижился в городе и в итоге вернулся в деревню.
Прототипом Герасима послужил реальный глухонемой (сейчас о таких людях говорят «глухой») дворник Андрей, который работал у матери писателя Варвары Тургеневой. Его называли Немым, и у него тоже была собачка. Но реальная история сложилась иначе: после утопления животного Немой продолжил служить барыне, в то время как герой рассказа взбунтовался и вернулся в деревню.
Ги де Мопассан, «Вальдшнепы» (1885)
Похожий персонаж, глухой пастух Гарган, возникает в рассказе французского новеллиста Ги де Мопассана, который дружил с Тургеневым и считал его своим учителем. В отличие от Герасима, Гарган идет гораздо дальше: он сходится со слышащей женщиной, страдающей алкоголизмом, женится на ней и затем убивает из-за измен, чтобы вернуть себе уважение.
После происшествия именно господин пастуха становится его переводчиком и адвокатом на суде. Гарган с его помощью пантомимой показывает, как он совершил убийство, и объясняет свои мотивы. Хозяин напирает на понятия чести, и его слугу оправдывают.
Глухой герой обладает гораздо большими возможностями, чем Герасим в «Муму», благодаря слышащему господину, который хорошо понимает его и помогает донести до окружающих точку зрения пастуха.
Амброз Бирс, «Чикамога» (1889)
Взгляд на глухого героя как на бессловесного человека можно также заметить и в рассказе американского писателя. Автор описывает приключения мальчика, который сбегает из дома в лес поиграть. Герой играет до упоения, потом устает и засыпает. И почему-то не слышит, как рядом разворачивается реальное сражение времен гражданской войны. Проснувшись, мальчик видит странных созданий, ползущих по земле, и думает, что это продолжение его игры. В финале выясняется, почему он ничего не заметил, и самым любопытным оказывается восприятие глухоты автором, которое сейчас считалось бы весьма некорректным.
Бирс использует глухоту как твист, который меняет взгляд читателей на ребенка. Это эффектный, но не особенно правдоподобный финал, потому что даже если ребенок глухой, шум и вибрации от разлетающихся снарядов обязательно бы разбудили его. А в качестве метафоры этот сюжетный поворот хорошо выражает изоляцию героя от мира.

За свадебным столом в «МУМУ. Действие четвертое. Дүртенче акт», спектакле, вновь созданном сообществом глухих, встретились жители Москвы и Казани, чтобы обсудить, чем отличаются друг от друга разные культуры.
Фото: Аня Завозяева
Карсон Маккаллерс, «Сердце — одинокий охотник» (1940)
Репрезентация образа глухого в литературе становится более разнообразной, и персонажи от бессловесности постепенно переходят к общению всеми доступными им способами — как гравер Джон Сингер из романа Карсон Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник». Он общается на американском жестовом языке со своим глухим другом-греком: «Руки его вычерчивали слова быстрыми жестами». А со слышащими он переписывается — знает английский язык. Например, хозяину гостиницы он пишет список блюд, которые хочет съесть на обед.
Слышащие герои романа сакрализуют глухоту Сингера: им кажется, что человеку, ограниченному в чем-то, доступна скрытая мудрость. Сам же глухой не способен их услышать, и настоящего контакта не происходит. Так образ глухого в первой половине XX века продолжает использоваться прежде всего как метафора изоляции и отчужденности.
В ХХ веке глухих постепенно начинают воспринимать как полноправных членов общества. О них начинают писать не только слышащие, но и сами глухие, слабослышащие, слышащие дети глухих родителей (CODA).
Клиффорд Саймак, «Пересадочная станция» (1963)
В своем романе американский фантаст возвращается к устаревшему представлению о глухом персонаже как о ком-то бессловесном. Дочь фермера Люси, второстепенный персонаж, глуха и не говорит ни на английском, ни на жестовом языке. Она отказывается ходить в школу и ведет себя подобно дикому, природному существу. Однако в финале истории эта девушка, несмотря на отсутствие речи, становится хранителем станции и улетает на межгалактическую конференцию с инопланетянами.
К слову, писатель предлагает любопытную идею о галактическом жестовом языке, которым владеет главный герой Инек. Тот сотрудничает с инопланетянами и использует так называемую пазимологию — искусственный язык, основанный на жестах. Можно предположить, что это аналог международных жестовых систем.
Получается удивительное противоречие: автор размышляет о жестовых языках как о перспективных способах общения с инопланетянами, но изображает глухого персонажа как бессловесное природное существо наподобие тургеневского Герасима, пусть и с паранормальными способностями. Сходная идея о жестовом языке как возможном способе коммуникации между жителями космического пространства есть у российского фантаста Сергея Лукьяненко в романе 2002 года «Спектр».

Все спектакли из цикла «МУМУ» метафорически давали представление о современном Герасиме: у него теперь есть голос, он может быть неудобен — не боится встретить осуждение слышащих, не боится встретить непонимание.
Фото: Аня Тодич
Рената Литвинова, «Обладать и принадлежать» (2007)
В повести, ставшей литературной основой кинокартины «Страна глухих», позднооглохшая героиня Яя способна говорить и голосом, и на жестовом языке. Литвинова так вводит ее в историю:
«И тогда в кухню вошла девушка. Ее звали Яя. (Имя она придумала себе сама, и настоящее, простое русское, было только в паспорте.) <...>
Она села на табуретку, быстрой острой рукой схватила со стола сухарик, стала хрустеть им в тишине и что-то спрашивать неестественным, ненормально высоким голосом — несколько раз одну и ту же фразу-вопрос, пока, наконец, всем не стал понятен смысл:
— Что смотрррришь? <...>
— Здрррррравствтвтвуйте! — резко и громко.
<...>
— Она глухонемая, — пояснил мужчина Рите. Та тут же расшифровала это по его губам. Обиженно прищурилась».
У персонажа есть реальный прототип — глухая актриса Елена Величко, знакомая Ренаты. Что было взято из жизни, а что придумано в образе, неизвестно, но некоторые детали Литвинова описывает довольно точно. Например, отдельные жесты или жестовое имя:
«— Пошли к мужчинам, — сказала Яя, приставляя сложенные в щепоть пальцы — обозначение по-глухонемому слова „мужчина“».
«Свинья... (Его кличка на языке глухонемых жестов — указательным пальцем приплющить нос, как свиной пятачок)».
Отчаянно жаждущая свободы, достижимой лишь через деньги, Яя торгует своим телом, сохраняя при этом детскую наивность. Ее реакции на поступки слышащей подруги Риты инфантильны и непосредственны, и эта черта остается неизменной до самого финала истории.
Также автор тонко подмечает важный языковой перевертыш: Яя испытывает злорадство, когда Рита оказывается в среде глухих и сталкивается с барьером жестового языка. Таким образом, Яя заставляет подругу прочувствовать то самое ощущение непонимания и отчужденности, которое сама постоянно испытывает среди слышащих.
Сиси Белл, «Суперухо» (2014)
В этом автобиографическом комиксе автор, глухая вне сообщества*, делится своим опытом обучения в школе слышащих. Сиси представляет себя и других персонажей в виде человекообразных кроликов с длинными ушами. Белл рассказывает по порядку, как она оглохла, как поняла, что отличается от других, и как начала комплексовать и испытывать стыд из-за своей инаковости. Автор подробно описывает чувства героини, поэтому ей легко сопереживать. Сиси непосредственна, ее желания понятны всем. Девочка придумывает секретную субличность Суперухо, когда ей ставят мощный слуховой аппарат. Она помогает девочке стать заметной для одноклассников и даже на некоторое время популярной девочкой в классе. Но это быстро заканчивается, и героине предстоит учиться принимать свою непохожесть.
— Так говорят о глухом человеке, который не идентифицирует себя как часть культуры и сообщества глухих.
В XXI веке истории о глухих становятся более визуальными — появляется много комиксов и историй с иллюстрациями.
История правдоподобно представляет положение глухой в мире слышащих без поддержки сообщества и жестового языка.

Документальный спектакль «МУМУ. Действие третье» снова собирал истории глухих и слышащих участников лаборатории — на этот раз, о смехе и повседневности.
Фото: Екатерина Стрельцова
Брайан Селзник, «Мир, полный чудес» (2011)
В истории участвуют два глухих персонажа — мальчик и девочка. Они живут в разное время, и сначала не до конца понятно, что их объединяет, но финал все расставляет по своим местам. История мальчика — текстовая, а девочки — визуальная, с иллюстрациями. Текст и иллюстрации перемежаются по мере развития истории, и постепенно она становится более визуальной. История девочки ощущается острее — героиня сбегает из дома от слышащего отца, чтобы увидеться с матерью, и по пути из-за своей глухоты попадает в разные приключения. Ее даже заставляют говорить голосом и запрещают общаться на жестовом языке.
Автор искусно вводит в историю о детях размышления о жестовом языке как о важном элементе идентичности.
Неудивительно: в начале XX века господствовал устный метод обучения, а жестовый язык считался «обезьяньим».
Сара Нович, «Кроме шуток» (2022)
В этом романе глухой писательницы Сары Нович так же, как и в «Мире, полном чудес», важна форма. Это произведение представляет собой не просто текстовый роман, но выступает кратким пособием и справочником по изучению американского жестового языка с помощью рисунков, схем и занимательных фактов о жизни глухих. В структуре романа жестовый язык визуально выделен: реплики на нем оформлены в отдельные столбцы, что позволяет читателю легко отличать их от словесной речи.

Фото: Аня Тодич
Что касается репрезентации глухих и слабослышащих персонажей, то здесь представлено самое широкое разнообразие из всех, что мне встречалось, и автор явно осознанно прибегает к этому. В числе персонажей — глухой парень из так называемой «элитной» семьи со множеством поколений глухих; глухая девушка из семьи слышащих, родители которой сделали ей неудачную кохлеарную имплантацию и настаивают на повторной; слышащая директриса школы, выросшая в семье глухих. У каждого из них своя сюжетная линия, и героям предстоит сделать не один выбор, обусловленный их культурными бэкграундами, что придает повествованию особую достоверность.
Итак, репрезентация образа глухого в художественной литературе за три века претерпела очевидные изменения: если в XIX веке такие персонажи немы, выступают метафорой изоляции и бесправия, то в XX веке они обретают голос. Сегодня же подобный подход непоколебим, и это легко проследить — достаточно отметить, сколь много произведений, и не только литературных, посвящено историям глухих людей. Конечно, художественная литература, фикшен, как медиум обладает множеством плюсов: становится возможным проследить тончайшие детали переживаний героев. Но текстовые описания никогда не передадут экспрессию жестового языка, который по своей природе визуален. Поэтому комиксы и кино — куда органичнее для создания образа глухого. Но о них, пожалуй, стоит поговорить в другой раз.
Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» (2025)
Не могу не упомянуть литературный дебют слабослышащей француженки Адель Розенфельд, который вошел в шорт-лист Гонкуровской премии. В романе слабослышащая героиня Луиза большую часть жизни успешно притворяется слышащей, пока слух не начинает резко падать. Она стыдится того, что больше не способна четко улавливать речь, но сопротивляется предложению начать пользоваться кохлеарным имплантом, ведь тогда звуки будут совсем другими. Луиза составляет «звуковой гербарий» в попытках замедлить исчезновение слуха и попадает в коммуникативно запутанные ситуации из-за нежелания признаться, что она плохо слышит. Героиня не чувствует себя «своей» ни среди слышащих, ни среди глухих. Она застревает в мучительном лимбе, из которого выходит, приняв решение сделать кохлеарную имплантацию.
История — показательный пример медицинской концепции глухоты, которая, к сожалению, до сих пор актуальна. В ее контексте все сосредоточено на том, что потеря слуха — это личная катастрофа, которая происходит, когда человек не признает свои ограничения и не делает конкретный выбор.