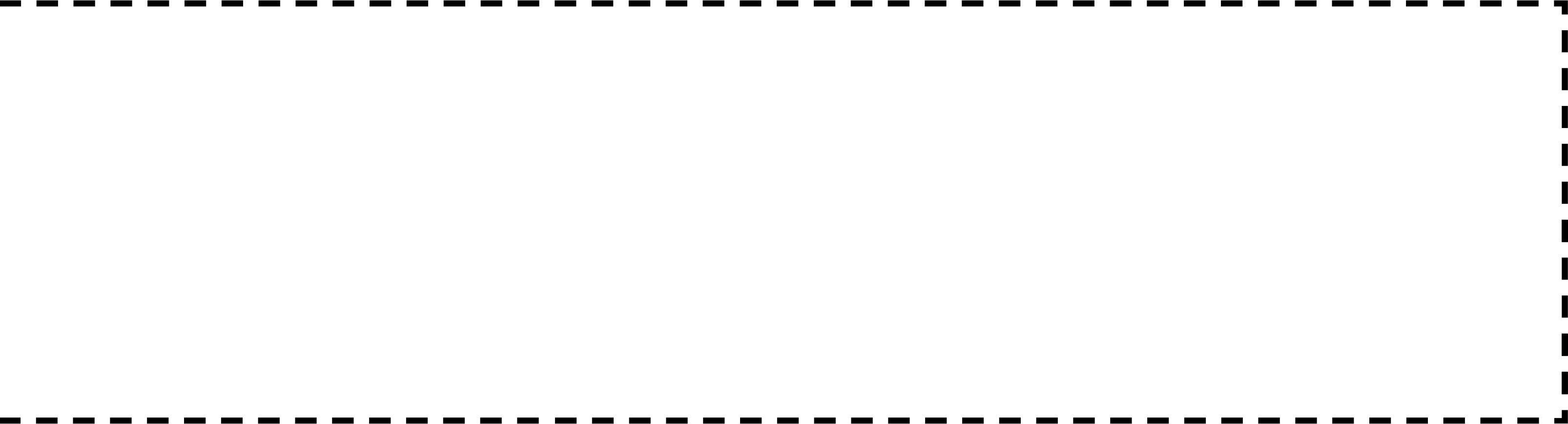
Соглашаться со смертью искусства или ждать его новых форм.
Разговор о роли критики
и критиков сегодня
Что происходит с критикой сегодня? Как телеграм-каналы меняют отношения читателя или зрителя с предметом искусства? Почему в 1990-е случился расцвет жанра и что будет дальше? Эти вопросы обсудили два ведущих критика в своих индустриях: Мария Кравцова и Константин Мильчин.
Автор текста
Марина Анциперова
Текст подготовлен по результатам интервью с Марией Кравцовой и Константином Мильчиным.
Мария Кравцова — историк искусства, арт-критик, главный редактор издания «Артгид».
Константин Мильчин — шеф-редактор «Яндекс Книг» и литературный критик.

О том, что разговор про смерть критики бесконечен и утомителен
[ Мария Кравцова ] Критика в русскоязычном пространстве каждый раз оказывается таким котом Шредингера (который одновременно и жив, и нет. — Прим. ред.). Разговоры о том, что такое критика, кто такой критик, зачем нужна критика, каковы ее критерии, на моей памяти не прекращаются с конца нулевых — начала 10-х годов, то есть с того времени, когда со страниц газет и специализированных журналов публичная рефлексия «ушла в Интернет» и самой критически заряженной средой стали соцсети. Именно там на протяжении последующих десяти лет периодически возникали яростные дискуссии о художественных феноменах, в которых содержательно участвовало огромное количество людей, никак в общем-то с критикой профессионально не связанных. И поэтому начало казаться, что фигура критика растворилась среди самых разных выражающих свое мнение юзеров. Многих это вдохновляло. Например, художник Дмитрий Венков даже снял фильм Krisis, в основу которого положил одну такую дискуссию. Казалось, что это симптом отмены старых иерархий и демократизации художественной среды.
Но потом популярные соцсети сменили мессенджеры вроде «Телеграм», где не может возникнуть никаких дискуссий. А события последних лет привели к тотальной перестройке системы искусства в России. И вот на фоне всего этого последние года полтора я наблюдаю странное явление: в Москве появляются новые медийные проекты, рассказывающие о культуре и искусстве, причем нередко это проекты на бумаге, то есть журналы. И часто старт нового медиа начинается с дискуссии о том, что такое критика сегодня и жива ли она вообще. Но так или иначе во всех этих новых проектах опять востребован не коллективный, как в соцсетях когда-то, а индивидуальный «автор». И не только он. Например, кроме собственно пишущих, у нас есть дефицит вообще умеющих работать с текстами людей — редакторов. Но кто будет писать во все эти журналы? Как сделать так, чтобы они звучали как дополняющие или возражающие друг другу голоса, если за последние два года у нас появился лишь один человек, которого можно назвать именно критиком, — Юля Тихомирова, которая присутствует сейчас везде?
Знакомое нам слово «критика» имеет древнегреческое происхождение и буквально означает «суждение». Для художественной критики важно уметь представить широкий контекст за отдельным произведением, будь то выставка или конкретная работа, иногда даже увидеть то, как движется искусство в определенный период.
[ Константин Мильчин ] Замечание о старте каждого нового медиа с похорон критики или отдельного жанра просто прекрасно. Но здесь я бы добавил следующую ремарку: в названии самых популярных обзорных роликов YouTube прозвучит слово «умирать». Как умирала карьера Джейсона Стэйтема, как умирали компьютерные игры, как умирал жанр постапокалипсиса. Как только ты ставишь в заголовок слово «умирать», то сразу всем оказывается интересно: мы понимаем, что сейчас познакомимся с какой-то историей, у которой есть логический финал. В детстве я очень любил читать книжки по астрономии, и даже тот факт, что я когда-то умру, не вызывал у меня такого шока в детском саду, как то, что однажды умрет Солнечная система.
Сколько раз я участвовал в дискуссии по поводу смерти критики? Хорошо помню свою первую книжную ярмарку «Нон-фикшн» в 2002 году. На сцене сидела Галина Юзефович и утверждала, что главная проблема современной критики заключается в том, что если ты пересказываешь текст, то читатель после этого не открывает книгу. Или, как в вашем случае, вероятно, не приходит на выставку. Получается, что главная цель обзора культурного продукта — это возможность поддержать разговор о нем.
Смерть критики — действительно довольно стандартная тема круглых столов и дискуссий. Регулярные похороны жанров, форматов или приемов — это, на мой взгляд, неизбежный процесс. Я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве и не знаю, что у вас хоронят, но у нас [в литературной критике], например, постоянно хоронят роман — примерно с момента его появления. Очень много хоронили за это время бумажные книги. Критика же действительно сильно меняется в последнее время и проходит разные этапы. А сейчас очевидным образом случается ее переформатирование.
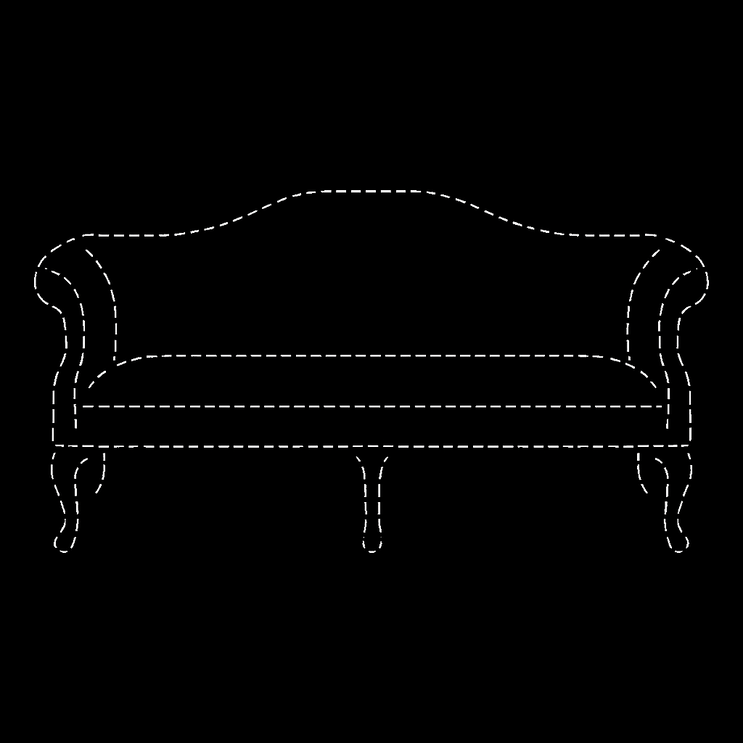
О расцвете критики в 1990-е
[ Мария Кравцова ] Думаю, в этом мы вас превзошли: мы хороним искусство как таковое. Немецкий теоретик искусства Ханс Бельтинг в своей книге «История искусства после модернизма», перевод которой вышел в прошлом году в издательстве Музея «Гараж», говорит о том, что если эра искусства когда-то начинается (на его взгляд, в XVIII столетии), то она вполне может и закончиться. Тот феномен, который мы сегодня обозначаем понятием «искусство» и под которым мы когда-то объединили множество самых разных феноменов, в том числе прошлого, перестанет воспроизводиться и, как следствие, уйдет в историю.
Со сменой формата вы совершенно правы. Современная художественная критика в России появляется на волне перестроечной «свободы слова» и порожденного ей медийного бума 1990-х годов: газеты «Коммерсантъ», «Независимая», «Сегодня», журнал «Итоги» и другие. На все современные феномены, в том числе искусство, она смотрит через политическую оптику. К тому же не будем забывать, что искусство 90-х годов радикально отличалось от тех художественных практик, которые до этого мы могли наблюдать в публичном поле, то есть, грубо говоря, на выставках. В эту эпоху искусство окончательно переходит в «постдюшановскую» парадигму: инсталляция, видео и объект вместо скульптуры и живописи, радикальный акционизм и так далее. Для того чтобы описать все эти новые виды искусства, был нужен новый язык, которым не обладала гуманитарная советская эссеистика.
И в этих газетах наши старшие коллеги — Андрей Ковалёв, Екатерина Дёготь, Федор Ромер изобретали этот новый язык. Но надо сказать, что они не первыми проходили через подобного рода слом: в своей книге «В борьбе за новейшее искусство» (Искусство и революция) Николай Пунин, который начинал критическую карьеру в журнале «Аполлон», описывает, как почувствовал, что о контррельефах Татлина нельзя писать тем же языком, каким он описывал экзерсисы мирискусников, — новому авангардному искусству должен соответствовать новый язык.
На русский язык переведено только две книги немецкого культуролога и искусствоведа Ханса Бельтинга (1935–2023), одного из главных арт-критиков второй половины прошлого века. Мария Кравцова — научный редактор перевода «История искусства после модернизма».
Музейный деятель, критик и теоретик русского авангарда Николай Пунин (1888–1953) — автор более 200 статей о советском и мировом искусстве.
[ Константин Мильчин ] Я добавлю как пример «Конармию» Бабеля. Новое время, новая страна, новый человек продвигали идею всего нового: новый язык для литературы, поиски новой Библии, новой «Войны и мира». У меня вообще есть гипотеза, что вся советская литература от 1920-х до 1970-х годов пытается написать новую «Войну и мир» новым языком.
«Конармия» — неоконченный сборник из 38 рассказов советского писателя Исаака Бабеля, объединенных темой Гражданской войны.
[ Мария Кравцова ] Того же нового языка требовали буквально пунинскими формулировками американские минималисты и концептуалисты. И мы сейчас находимся в ситуации нового технологического перехода, который может, как ожидал Бельтинг, закончить «эпоху искусства», а может породить его новые формы, для описания и рефлексии которых нужен будет другой язык. На самом деле мы уже столкнулись с этим, когда переживали пузырь NFT. Никто ведь так и не смог объяснить, что это такое, более-менее понятными не только технарям и программистам словами.
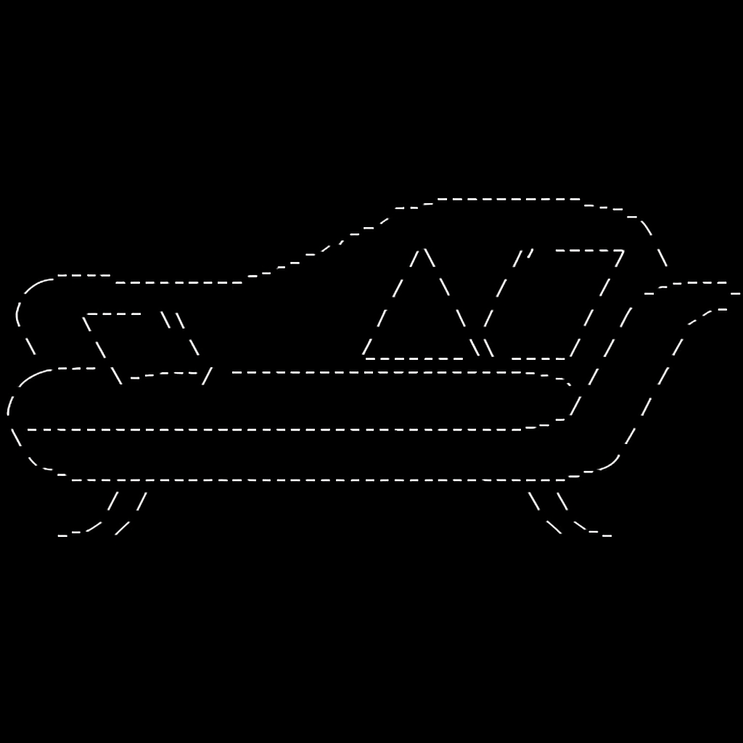
О пике интереса к культуре в 2010-е
[ Мария Кравцова ] Сегодня я вижу снижение интереса к культуре в целом. Но если я говорю о снижении, это значит, что когда-то наблюдался подъем. На мой взгляд, он пришелся на конец нулевых — середину десятых годов и возник во многом под влиянием бума социальных сетей. Искусство, новая выставка, художественная акция, статья, интервью с кем-то моментально становились инфоповодом для других и предметом общественного обсуждения. Я никогда не забуду, как, проходя мимо включенного телевизора в парикмахерской, увидела сюжет, посвященный рейтингу «самых влиятельных деятелей искусства» «Артгида».
[ Константин Мильчин ] Получается, что очередь на выставку, поход на Серова, безумие, воспетое в песне «На лабутенах» группы «Ленинград», это именно часть того самого явления.
[ Мария Кравцова ] Да, это как раз середина десятых годов, ретроспектива Валентина Серова и якобы снесенные поклонниками мастера двери Третьяковской галереи — это 2015 год. Мне тогда казалось, что культурное потребление становится неотъемлемой частью жизни.
Что происходит дальше? С одной стороны, некоторое перенасыщение, в Москве огромная конкуренция событий, ты просто устаешь от них и уезжаешь на дачу. С другой — повышение цены входа на территорию культуры. В прямом смысле слова. Быть сегодня культурным потребителем может позволить себе далеко не каждый: книги стоят дорого, билеты в театр за последние несколько лет кратно подорожали, музеи тоже. Локальный художественный бум и популярность арт-ярмарок привели к тому, что сейчас невозможно найти молодого художника, который даже за свою первую вышедшую на рынок работу не хотел бы минимум полторы тысячи долларов. В десятые мы ждали демократизации культуры, а случилось наоборот.
[ Константин Мильчин ] Это очень интересно: мы видим две разные тенденции. В 1990-е годы ты мог стать критиком, если был интеллектуалом эпохи уровня Екатерины Дёготь или Андрея Ковалёва. Входной билет в критику очень дорогой, входной билет в потребление — копеечный. А теперь мы видим обратное: входной билет в [профессию] оценщика, то есть такого вот человека, который рассказывает о потреблении, стоит копейку. В то время как вход в собственное потребление оказывается очень дорогим. И оказывается, что потреблять престижнее, чем экспертировать.
О современности: как критиков сменяют блогеры
[ Мария Кравцова ] Сегодня огромное количество людей пишут о культуре, но производят совершенно одинаковый текст. Это формат эпохи «Телеграма»: короткие заметки с фокусом не на процесс и глубину его анализа, а на отдельное событие — очередную выставку, описанную крайне лапидарно. Это информирование, бесконечная афиша, но не в коем случае не критика. Но не забудем про еще одну революцию — чат GPT, который быстро и без проблем с орфографией и пунктуацией генерирует любые тексты, благодаря чему человеческий фактор уходит из письма о культуре вообще.
[ Константин Мильчин ] На мой взгляд, за последние 25 лет произошла замена критиков на обозревателей. Собственно, критик — это человек, который в первую очередь разговаривает с автором, с литературой, профессиональным сообществом.
Другой процесс происходит в том случае, если обычные московские девушка или юноша, работающие в основное время, допустим, юристами, в своих каналах советуют сходить на ту или иную выставку. Это разные форматы и процессы, но в обоих случаях потенциально полезные. Важное отличие заключается в том, что у этого московского юриста нет системного образования, системного подхода. Но если ты критик, ты должен знать всю историю литературы — от эпоса о Гильгамеше до последних книг Сергея Минаева — и понимать, как одно ведет за собой другое.
Для русской критики было очевидно наличие некоторых центральных фигур — Лев Данилкин в 2000-е, Галина Юзефович в 2010-е. А сейчас такой фигуры нет. Появится ли теперь критик этого типа? Совершенно точно, что мы находимся в начале некоторого нового этапа. Я охотно верю, что условная Полина Парс или Энтони Юлай могут стать такими фигурами. И я думаю, что новый влиятельный критик скорее придет из таких обзоров, чем из бумаги и текста. С другой стороны, звезда опаздывает — половина десятилетия прошла, и пока такой заметной фигуры так и не появилось. Может быть, индустрия и правда дальше будет существовать без главного человека?
[ Мария Кравцова ] Мы сами долго в десятые на волне «новой этики» друг другу рассказывали, что все иерархии должны быть разрушены ради горизонтальных структур и связей. Все равны, все одинаково интересны, и не надо тут кого-то возводить на табуретку.
[ Константин Мильчин ] Я как раз никогда этого не говорил, мне была симпатична немецкая модель, где критик по умолчанию всегда один — Марсель Райх-Раницкий. Коля Малинин, известный архитектурный обозреватель, меня всегда дружески подкалывал за кружкой пива: он мог сказать, что работает вторым критиком после Григория Ревзина. Кто же в этой иерархии был я? Наверное, в пространстве между вторым и восьмым.
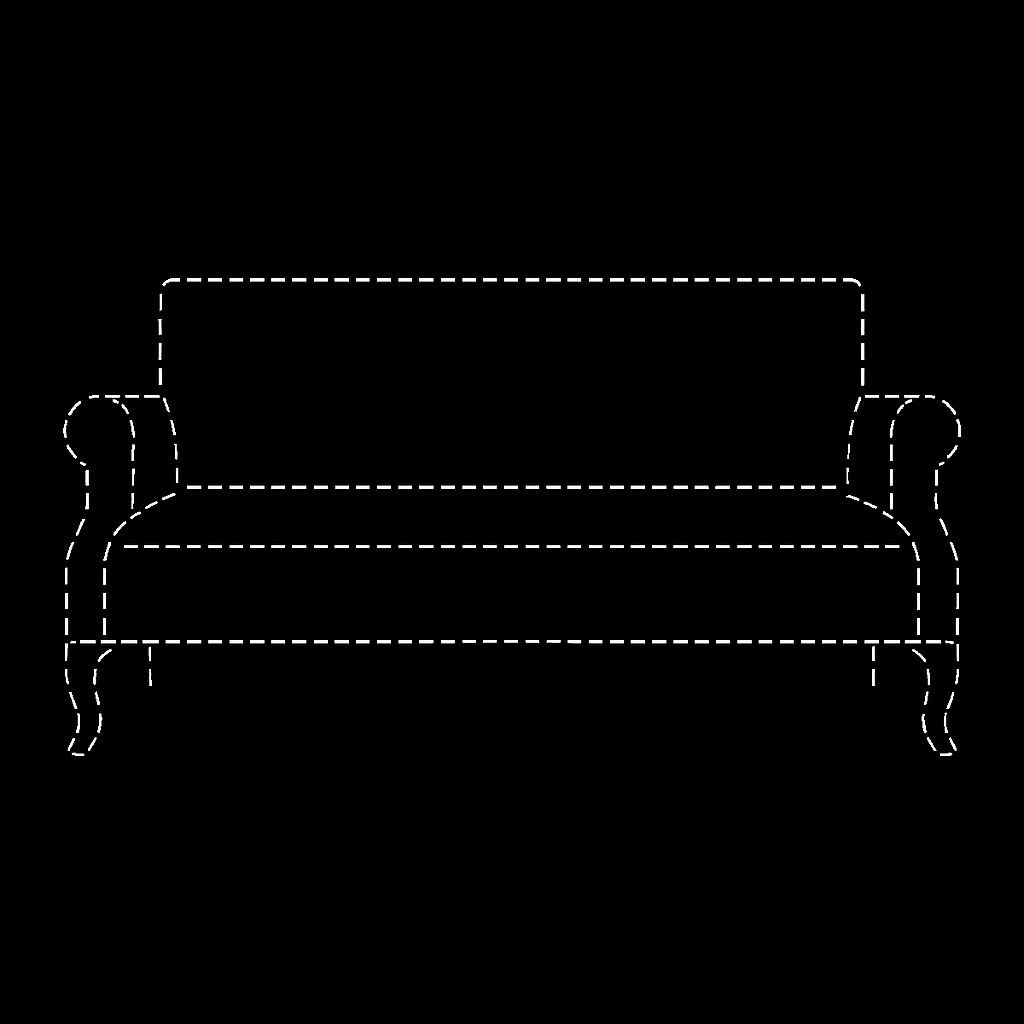
О невозможности критиковать и важности профессионального разговора
[ Мария Кравцова ] В конце прошлого года в англоязычном сегменте довольно активно обсуждалась рецензия Дина Киссика (Dean Kissick) на выставку в Барбикане Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art. Это был довольно едкий текст, обвиняющий «новую этику» в том, что искусство стало избегающим, однообразным, блеклым и не порождающим ни сильных эмоций, ни плодотворных размышлений. «Бережное отношение к чувствам зрителей» привело к новому формализму, бесконечно одинаковым «высказываниям». Мы это тоже пережили: в «Артгиде» с какого-то момента мы замучились оправдываться перед часто анонимными, но очень принципиальными комментаторами за «неправильные предлоги», «не те» слова и так далее. Тот боевой критицизм, который многих привлекал в художественной критике предыдущих десятилетий, начал исчезать под давлением сначала «оскорбленных», а затем просто «бережных» чувств. И оказалось, что критика на этом просто заканчивается.
[ Константин Мильчин ] Я согласен, но мне кажется, что опять-таки это связано со сменой форматов. Когда вы выбираете, куда пойти на выходные, вам же не очень интересно читать обзор плохих выставок? То же самое происходит с книгами. Если ты советуешь что-то читать, то не будешь рассказывать о недостатках книги. С третьей стороны, конечно, всегда найдется причина, по которой ты не имеешь права об этом писать: если раньше главным условием было прочитать книгу до рецензии, то теперь поводов для возможных упреков стало больше. Как ты, москвич, можешь судить о книге, написанной не москвичом? Как ты, мужчина, можешь судить о книге, написанной женщиной? Ну и так до бесконечности.
Кроме того, в литературу пришел новый жанр — литература травмы, который предполагает рассказ о каких-то болевых точках. И в этом случае возникает вопрос, с чем мы вообще имеем дело: с публичной психотерапией или все-таки с художественным произведением, которое мы оцениваем как художественное произведение? Я сам часто критикую понятие «важная книга» — так говорят про книгу, общественная значимость которой понятна, но, скорее всего, написать про ее художественные достоинства и технику не получится.
[ Мария Кравцова ] В искусстве бывают и обратные случаи. Например, художник Евгений Музалевский в рамках своего социального проекта отправил фотографии своих живописных абстракций в колонию, где в тот момент отбывала наказание его мама. И она вместе с другими осужденными женщинами конвертировала их, как мы выражаемся, в другой «медиум» — вышивку. Я потом долго думала о тех женщинах, которые по разным причинам могли оказаться в этих местах, и о том, насколько идея вышить хотя бы одну из «картин» сына могла изменить их брутальное, монотонное, несвободное существование. И при том, что я совсем не поклонник творчества Музалевского, этот проект примирил меня с художником и его, как выражаются наши американские коллеги-критики, «зомби-формализмом». Хотя и по отношению к нему, и по отношению к проекту Ватикана на 60-й Венецианской биеннале, который разворачивался в действующей женской тюрьме на острове Джудекка, часто выражалось мнение о бессовестной «эксплуатации» уязвимых женщин. Но тем не менее я с вами абсолютно согласна относительно сложности [высказывания] на тему травмы и возможности говорить о том или ином опыте.
Но у этой авторской обращенности на себя, которая есть и у арт-критиков, тоже есть и другая сторона. Например, я не могу найти авторов на целый ряд региональных сюжетов из-за узости интереса к культурным феноменам, а иногда и просто кругозора авторов на местах. Когда я начинала заниматься художественной критикой, нам казалось очень важным быть не просто в курсе календаря российских и мировых событий, но и по возможности становиться их свидетелями. Нам хотелось все увидеть самим, везде успеть, обо всем узнать и рассказать нашим читателям. Мне кажется, что все, что я зарабатывала в нулевые, я тратила исключительно на поездки по биеннале, выставкам и ярмаркам. Сегодня я вижу коллег, которые не интересуются тем, что происходит за периметром их среды или города, а желание быть частью большой интернациональной профессиональной среды как будто бы утрачивается.
[ Константин Мильчин ] Совсем недавно за свой счет я отправился на книжную ярмарку в Лондон и купил билет за 100 фунтов просто потому, что я хотел постоять в месте, где находится много «книжных» людей. Создание инфраструктуры [книжной ярмарки, пространства для диалога читателей] — это тоже критика.
Книга, купленная на книжной ярмарке либо купленная с учетом той информации, что ты получил на книжной ярмарке, — совсем не та книга, которую ты заказал, лежа на диване. У этих двух предметов, используя слово из вашего мира, будут разные провенансы.
Понятно, что поход на выставку — это коллективный процесс, но и чтение, на самом деле, коллективный процесс. Ты можешь читать для того, чтобы соответствовать [определенной среде]. Другие люди это делают для того, чтобы обсудить, возможно, кого-то догнать или обогнать. Можно читать, чтобы отстраниться от кого-то, или, наоборот, читать, чтобы к кому-то «прислониться». Это та суть чтения, которую не всегда хорошо понимают пишущие, но очень хорошо понимают контент снимающие буктьюберы в своих относительно современных форматах: я говорю про видеоблогинг, где создатели рассматривают свои книжные полки и сверяют, стоит ли им встречаться или нет.

Кто же такой современный критик
[ Мария Кравцова ] Я придерживаюсь мнения, что критика — это не отдельный человек, который может выгореть, не выдержать критику, обращенную уже на него самого, сменить сферу деятельности, а институт, система. Чтобы критик состоялся, ему нужны редактор и площадка, место, где он будет публиковаться, причем в определенном контексте тем, собеседников, подходов.
[ Константин Мильчин ] Редактор уже не нужен, то есть даже скорее не обязателен: критик сейчас публикуется у себя в социальной сети.
[ Мария Кравцова ] В этом смысле я больший консерватор. Я считаю, что критика — это пространство сотрудничества многих разных людей. И эта платформа тоже меняется, потому что развиваются новые технологии, появляются новые форматы, приходят новые люди, дополняющие старый или образующие новый контекст.
[ Константин Мильчин ] Многие профессии изначально начались с описания действий. Пушкин словами «критик мой румяный» описывает качество человека, то есть его действия. Критик — это тот, кто критикует. И поскольку я сам не являюсь профессиональным филологом, то главное отличие критика, на мой взгляд, — это системность. Если ты пишешь 50 рецензий в год на протяжении 25 лет, то можешь оперировать гораздо более длинными циклами и тоже делать на этом основании некоторые, возможно, интересные выводы.
Круг дискуссии, идущей от Пушкина, как будто бы замкнулся, потому что критик сегодня — это не человек, который профессионально этим занимается, а который как бы критикует. Но и само действие «критикует» [а вместе с ним и критика как явление] по сути уже потеряло негативный оттенок.
Алгоритмы и люди, которые на энтузиазме начали писать про культурные феномены, успешно заменили критику как медиум между собственным произведением, книгой, предложением художника и публикой. Алгоритмы куда лучше и эффективнее продвигают книжную новинку или книжную «старинку», чем человек-критик с его авторитетом. А критик как будто бы действует в какой-то уже другой сфере.
О новых вдохновляющих форматах
[ Константин Мильчин ] Из тех, кто был книжным критиком десять лет назад, мало кто остался в профессии. Кто-то, как я, продолжает писать, но у меня нет площадки, где я публикуюсь постоянно. Наиболее системно книжной критикой я занимаюсь в рамках своего шоу, которое веду со своим другом Сергеем Исаковым. У нас получается примерно 50 выпусков в год, в рамках которого мы обозреваем 200 книг.
[ Мария Кравцова ] Как у Константина, у нас был подкаст, который мы сейчас пытаемся возродить. Также я много думаю о видеоформатах: мой собеседник говорил про буктьюберов, которые, возможно, станут новыми звездами, критиками номер один. Это похоже на правду. С одной стороны, все указывает на то, что мы должны стать более гибридными и более гибкими, с другой — я хочу вернуться к жесткости и даже новой иерархичности. Мне больше не нравится негласный лозунг предыдущего десятилетия — «все имеет значение и ценность», под который, например, награждали арт-премиями совершенно одинаковые проекты. Буквально на днях я посетила очередную выставку «тихого» советского модернизма, авторов, которые на много десятилетий выпали из истории искусства и даже сейчас не то чтобы в нее основательно вошли. Когда я преподавала в университете, мы со студентами много времени посвящали этой эпохе и тому, почему этим художникам досталась именно такая судьба. Мне было важно объяснить, что зачастую именно внешнее давление, не связанное с искусством как таковым, обрекало человека на забвение и наша задача — бесконечная ревизия прошлого и исправление его ошибок. Но на этой очередной выставке я отчетливо поняла, что все подобные проекты уже сливаются у меня в сознании до неразличения и с этой конкретной я не вспомню ни одной работы, ни одного имени. Я почувствовала, что опять жду от искусства сильной эмоции. Когда я начинала свою профессиональную деятельность в начале нулевых годов, искусство и критика были местом именно эмоций, ожиданий и нередко интеллектуального восторга, связанного с яркими открытиями.
Еще один вопрос, который меня волнует: несмотря на то, что мы постоянно пишем в «Телеграмы», снимаем ролики, записываем подкасты, то есть «создаем контент», имеет ли он потенциал стать реальной источниковой базой искусства 20-х годов уже нашего столетия? Мои сомнения связаны не только с «некритичностью» и «неаналитичностью» этих форматов, но и с их цифровой природой. Когда-то я была энтузиастом интернет-медиа, мне казалось, что переход критики в Интернет демократизирует искусство и расширяет его аудиторию, но сегодня я в этом не уверена. Идешь по известному адресу, а там пустота, «ошибка 404». А события последних лет показывают, что стоит себя бесконечно «пересохранять» и «дублировать» и никто не придумал еще более надежной формы этого сохранения, чем сшитый блок бумаги — физический носитель.
Еще один тренд, который, как мне кажется, имеет место быть в критической рефлексии. В своей практике я вернулась к совсем архаичным формам размышления вслух об искусстве. Я и мои друзья, скорее младшего, чем моего и старшего поколения, периодически устраиваем беседы и диспуты об искусстве. Это все здорово и вдохновляюще, но вот проблема: от них не останется ничего, как не осталось от семинаров в мастерской Кабакова, в которой собирались и представители художественной и философской интеллигенции, или обсуждений в рамках квартирных выставок. Настоящая, увлеченная, пронизанная эмоцией критика, которая имеет сегодня ряд публичных ограничений, вновь возвращается в допечатную эпоху и будет потеряна для будущего поколения исследователей.
[ Константин Мильчин ] Возможно, память и ее значимость переоценены. Нам очень хочется думать, что мы представляем собой то самое поколение жителей Земли, которое оставит после себя память. С другой стороны, сколько этих поколений умерло бесследно? Но, конечно, хотелось бы думать, что не только про полководцев и правителей останется в памяти, но и про нас, простых критиков, добившихся некоторых результатов в своих [не всегда очевидно полезных для общества] сферах.