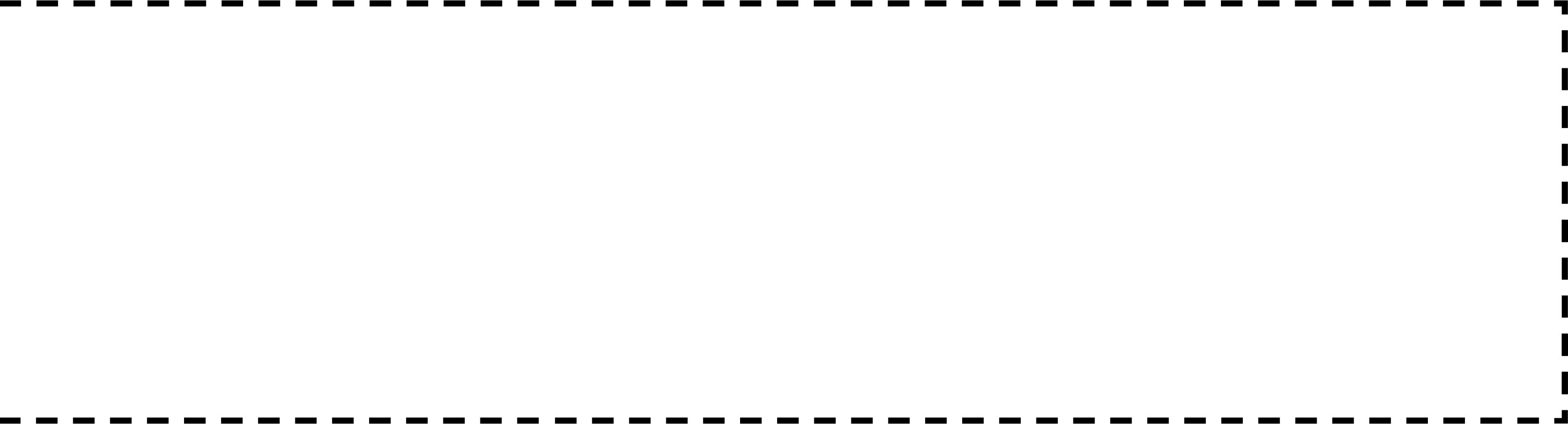
«Тяга к природе фундаментальна». Эссе о нежности и надежде
Работу в саду долгое время ассоциировали с любимым занятием людей старшего возраста. Сегодня же грядками, закатыванием солений и фотографированием пионов занимаются представители практически всех поколений. На почве чего пустила корни эта мода?
Автор текста
Катя Киселева — медиаспециалист Дома культуры «
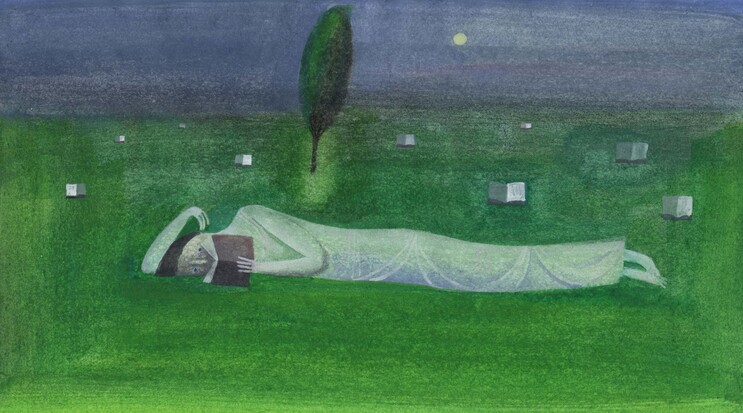
Иллюстрация: Вика Попова
В актуальное, чуть ли не поп-культурное явление садоводство превратилось во время ковида. Тогда многие переезжали из квартир за город — подальше от тесных стен, одноразовых масок, перчаток и жестких ограничений. Можно сказать, что это была реакция на неприемлемую реальность, пусть и не осознаваемая как политический жест — с попыткой построить свой альтернативный мир. «Уход в лес» (1951) манифестируется в одноименном эссе Эрнста Юнгера как способ сохранить свободу через размежевание с миром, полным контроля, общественных предписаний и чужой власти. Такой отрекшийся от цивилизации одиночка делает выбор в пользу самостоятельного пути — от первозданной глуши до того уровня комфорта, ценой которого не станет собственная независимость.
Подобная философия прослеживается в автобиографическом труде Генри Дэвида Торо, появившемся в 1854 году. В «Уолдене, или Жизни в лесу» задокументирован реальный эксперимент по уединенной жизни на берегу Уолденского пруда — со строительством лесной хижины, выращиванием съедобных плодов, рыбалкой, чтением. Сознательное редуцирование до натурального хозяйства демонстрирует возможности самодостаточной, подлинной жизни. Торо легко отказывается от потребления, навязанных обществом благ и статусных вещей.
Когда человек нашел себе дело, ему не требуется для этого новый костюм. <...> Я советую вам остерегаться всех дел, требующих нового платья, а не нового человека. Если сам человек не обновился, как может новое платье прийтись ему впору? Если вам предстоит какое-то дело, попытайтесь совершить его в старой одежде. Надо думать не о том, что нам еще требуется, а о том, чтобы что-то сделать, или, вернее, чем-то быть.
— Генри Дэвид Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу»
Незапланированный и радикальный пандемийный эксперимент подарил возможность остановиться и взглянуть на свою жизнь с дистанции. Так ли она хороша в мегаполисе и его повседневности, доведенной до автоматизма? Тишина, резко обрушившаяся на урбанистическую скорость и громкость, была оглушительной и отрезвляющей.
Глобальный постковидный сад не похож на аристократические английские заросли вокруг готических особняков. Или на утилитарные советские шесть соток с капустными грядками, алюминиевыми тазиками и хозяйственным мылом. У современного увлечения природой есть свое пространство смыслов и эстетических кодов. Пожалуй, главная точка отсчета — ускоряющаяся цифровизация и усталость от ее тотальности. Смартфон близок к телу так, будто он новый орган, — в нем время, карты, новости, сервисы, общение, данные о здоровье, контент, работа. Слишком интенсивное взаимодействие с технологией ускоряет и упрощает решение задач, но ограничивает чувственный опыт. От почти круглосуточного однообразия экранов, кнопок, алгоритмов начинает укачивать. Дополненная многозадачностью цифровая рутина вызывает хроническую усталость — еще один известный симптом поколенческой эпидемии. В этом контексте бывшие белые воротнички, променявшие престижный офис на ферму, совсем не кажутся эпатажными чудаками.

Иллюстрация: Вика Попова
Разумеется, садоводство придумали не зумеры на карантине. Это многоликий культурный феномен с большой историей. Интерпретации можно раскапывать бесконечно. Даже в хорошо знакомых нам классических культурных отсылках можно найти несколько разных «садовых» сюжетов. Библейский Эдем — рай, потерянный Адамом и Евой после грехопадения. В живописи импрессионистов подсолнухи, маки, кувшинки и фруктовые деревья — символы безмятежного наслаждения красотой, на фоне которой иногда появляются знатные дамы под зонтиками. Чеховский «Вишневый сад» — метафора упадка дворянской эпохи, которая трагично угасает под стук топора, освобождая место для нового социального порядка. В «Соловьином саду» Блок разоблачает иллюзию райской праздности и находит смысл в повседневных заботах, которые раньше казались бременем. Осиротевшая героиня «Таинственного сада» Фрэнсис Бёрнетт облагораживает заброшенный сад любовью и трудом, и он становится для нее местом возрождения.
Тяга к природе фундаментальна. Тоска по ней имеет во многом экзистенциальные корни. Природа — это яркая метафора переплетений жизни и смерти со свойственными им циклами: зачатием, рождением, ростом, цветением, созреванием, зрелостью, увяданием, болезнью, умиранием, смертью, разложением. При этом в образах флоры мы не сталкиваемся с антропоцентричными ужасами разрушительной боли и страхом небытия. Лики природы всегда поэтичны — будь то появившийся из-под земли нежный росток, раскрывающийся бутон кустовой розы или гниющее в осенней луже яблоко. Эта меланхоличная красота погружает в спокойствие, окутывает неизбежное нежностью. Растения, как и мы, живые, но слишком другие, чтобы мы могли быть достаточно эмпатичными свидетелями их событий. Разлагающаяся в поле лошадь тревожит, а мумия фиалки — это трогательное украшение гербария. Межвидовая дистанция создает пространство для безболезненного наблюдения за узнаваемыми метаморфозами материи.
Наблюдение за природой деконструирует сооруженный страхом миф о грандиозности человеческой жизни, которая непременно должна содержать в себе триумф, нечто бросающее вызов телесной конечности, нечто стремящееся перелиться за пределы скромно отведенных десятилетий — в вечность. Листья, стебли, корешки, плоды «не воздвигают себе памятников, к которым не зарастет тропа», — тропа зарастет чем-то другим, органично и своевременно на ней возникшим. И в этом нет катастрофы.
Сад часто утешал тех, кто обращался к нему в сложные времена. Известен пример режиссера Дерека Джармена, который вернулся к своему детскому увлечению растениями, когда умирал от неизлечимого заболевания. Его сад, разбитый вокруг дома на прибрежной гальке мыса Дангенесс, стал символом преодоления трудностей: не каждый посаженный цветок мог выжить на камнях, омываемых морской волной.
Я поливаю розы, размышляя, увижу ли я их в цвету. Я сажаю огород как панацею, читаю обо всех заболеваниях, которые растения могут исцелять. И знаю, что они не могут. Сад как аптека бесполезен. Однако в наблюдении за тем, как из земли появляются цветы, есть восторг, дающий мне надежду.
— Дерек Джармен, «Современная природа»