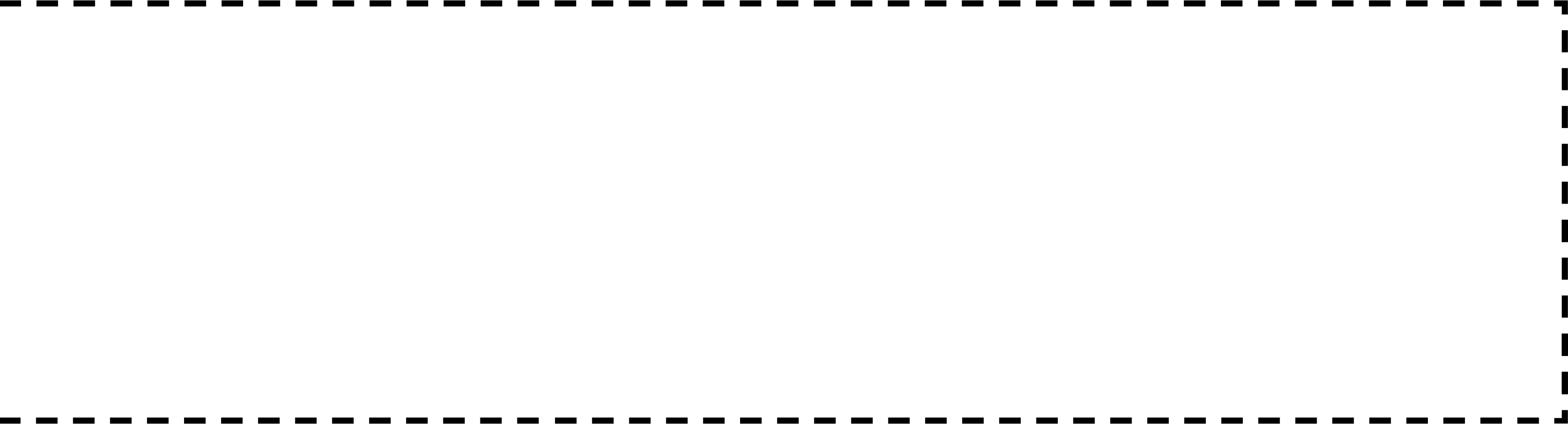
Разговоры о пустоте.
Булатов и Безмолитвенный — о сознании, киборгах и буддизме
В рамках уик-энда «Докажите, что вы не машина» философы, художники и музыканты размышляли о том, как японский киберпанк оказался пророчеством о судьбе человеческого «я» в цифровую эпоху. Споры о том, есть ли граница между человеком и машиной, духом и алгоритмом, иллюзией и реальностью, стали предметом этого материала.

Автор
Марина Анциперова
Материал подготовлен по результатам дискуссии Дмитрия Булатова и Антона Безмолитвенного. Комментарии на полях Кирилла Яновского.
Дмитрий Булатов — художник, исследователь, куратор. Организатор проектов в области Art&Science и новых медиа. Лауреат премии Сергея Курёхина (2023), дважды лауреат Государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2008, 2013).
Антон Безмолитвенный — философ, психолог, нейрофеноменолог. Автор множества статей и публикаций, посвященных исследованию буддийских представлений об устройстве ума, которые вылились в книгу «Буддизм XXI века» (готовится к публикации).
Кирилл Яновский — куратор, переводчик и энтузиаст японской культуры. С начала 2000-х жил и работал в Токио, запускал в России Uniqlo, сотрудничал с ведущими брендами и медиахолдингами.
О том, как мы все сегодня живем в киберпанке
[ Дмитрий Булатов ] Кибернетика — одна из центральных наук XX века. И то, с чем мы ежедневно имеем дело сейчас: нейросети, искусственные интеллекты, робототехника, являются в буквальном смысле детьми всего кибернетического движения XX века.
Если модернистский подход утверждал, что технологии движут нас из темного прошлого в светлое будущее, то кибернетический панк с этим не соглашался. Мы можем обрастать наукой и технологиями, но это не обязательно значит, что общество станет светлее, прозрачнее и легче. Киберпанк как жанр очертил границу применимости науки и разработки технологий.
Если хочется ощутить киберпанк не как жанр, а как воздух повседневности, начните не с фильмов, а с городов. Прогулка по токийскому району Синдзюку в ночи или блуждания по окраинам китайского Шэньчжэня расскажут о киберпанке больше, чем любые фантастические картины.
[ Антон Безмолитвенный ] Напомню, что киберпанк сочетает в себе две основные составляющие — хай-тек и лоу-лайф: высокие технологии и совершенно обыденную, приземленную жизнь. И в этом смысле мы все уже давно обитаем в киберпанке: прежде всего за счет того, что технологии ощутимо шагнули вперед.
При этом интересно, что киберпанк как жанр японского аниме на текущий момент является уже «мертвым»: расцвет и настоящие взлеты киберпанка датируются концом 80-х годов и, может быть, началом 90-х. Тогда были заданы все основные направления, которые сегодня имплементированы в реальность или находятся в процессе этой имплементации. Наследие киберпанка частично стало реальностью, а частично тем, что мы сегодня называем ретро-футуризмом — некой светлой грезой, которая уже воспринимается как ностальгическая.
Про киберпанк и буддизм
[ Антон Безмолитвенный ] Было бы очень интересно исследовать, почему именно в Японии киберпанк был по-настоящему грамотно, красиво реализован, хотя формально возник как жанр в Америке. Более ранние и, на мой взгляд, гораздо более глубокие истоки этого жанра связаны с буддизмом — одной из значимых составляющих японской культуры.

Исходя из этого, будет уместно выстроить нашу дискуссию как вольное размышление на тему: а что же останется от человека, если в духе киберпанка и трансгуманизма постепенно заменять отдельные его части на машины? Я говорю о так называемом парадоксе Тесея, давно известном в философии. Этот парадокс завязан на истории про корабль, который афиняне сохранили как памятник после возвращения Тесея с Крита. Как это водится с транспортными средствами, памятник начал помаленечку разваливаться, и греки были вынуждены его понемногу чинить: где-то прибить новую доску, где-то заменить отвалившуюся часть. Через некоторое время вдруг оказалось, что корабль полностью состоит из новых деталей. Отсюда возникает метафорический вопрос, над которым не одно поколение философов ломало голову: можно ли считать его тем же самым кораблем?
Перекладывая то же рассуждение на классическое для киберподхода размышление о сознании: если мы заменили какие-то элементы нашего мышления [например, киберимплантами], то остались ли мы теми же самыми? Ghost in the Shell — именно то аниме, которое не только проблематизирует эти вопросы, но и дает довольно убедительный визуальный ряд, который позволяет их рассмотреть «вещно, грубо и зримо». Герои отчаянно цепляются за так называемый призрак: то, что гипотетически остается от человека после того, как отдельные части его мозга заменяются на киберимпланты.
Я сразу хотел бы обратить ваше внимание на те обстоятельства, по которым именно для японского общества и сознания эти темы были актуальны еще в 90-е, когда для многих это казалось чем-то запредельно далеким. Дело в том, что в буддизме существует представление о том, что человеческое «я» состоит из пяти составляющих, скандх: непосредственных сенсорных восприятий форм (рупа), эмоциональных реакций (ведана), последующей категоризации, именования (санджня), бессознательных процессов, формирующих намерение (самскара) и самого осознавания, различающего внимания (виджняна). Все эти составляющие, работая вместе, создают иллюзию наличия того, что мы называем сознанием, своим «Я», «собой». Поэтому японская культура заранее была подготовлена к идее, что человеческое «Я» — это динамический процесс, который постоянно меняется, подобно кораблю Тесея. Наше ощущение себя меняется в процессе жизни: 60-летний человек совсем не тот, каким он был в возрасте шести месяцев.
Идеи киберпанка проявляются далеко не только в кино и аниме. Например, архитектурные проекты Тадао Андо с его бетонными пустотами и «тишиной» напрямую перекликаются с эстетикой киберпанка: тело маленькое, бетон бесконечен. В моде — коллекции Рей Кавакубо для Comme des Garçons, где одежда выглядит как интерфейс, а не как украшение. В медиаарте — высказывания Рёдзи Икэды, где белый шум и поток данных становятся материалом для создания искусства. Даже в арт-инсталляциях teamLab ощущается японская традиция: зритель теряет тело, визуально сливается со средой.
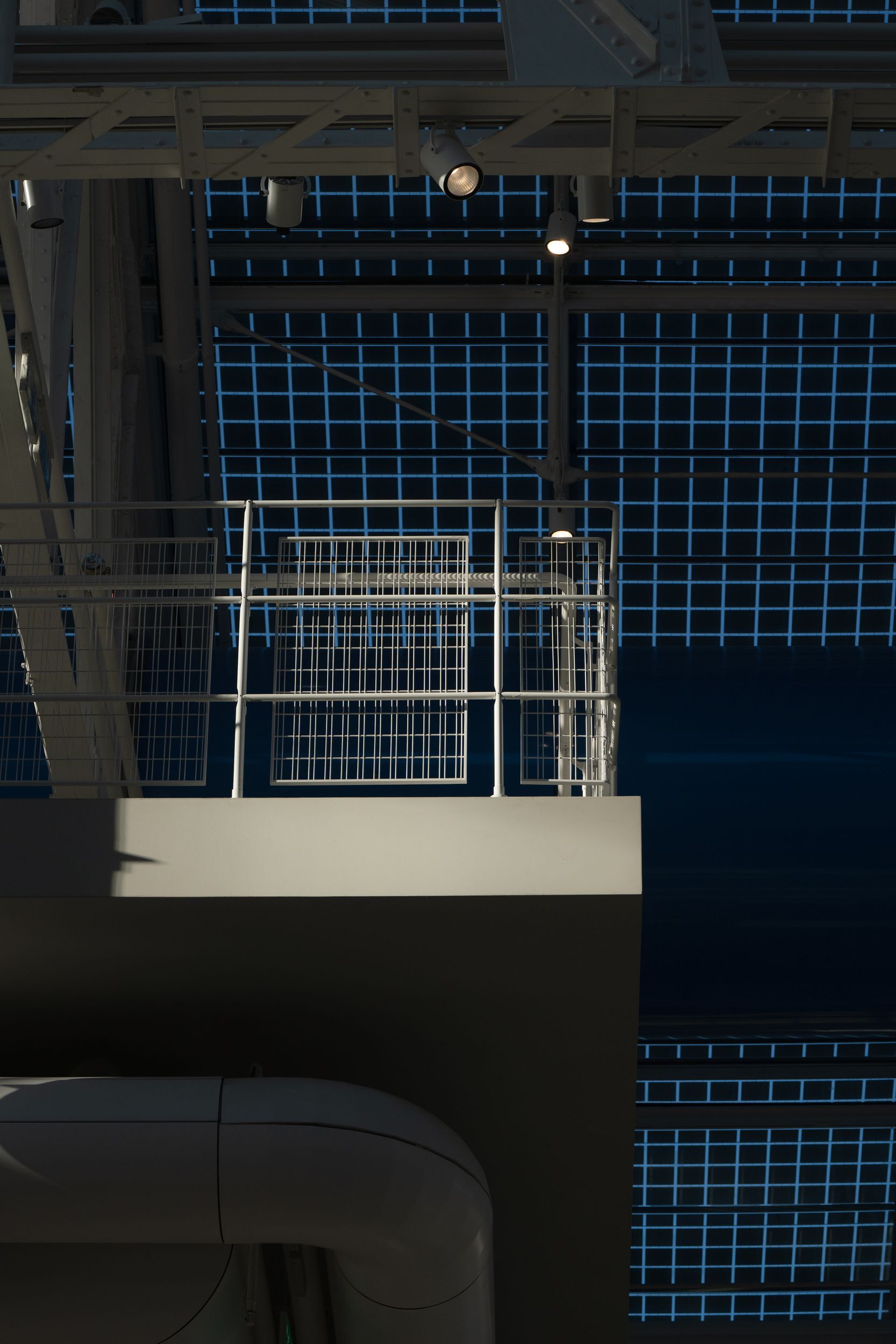

[ Дмитрий Булатов ] Следует вспомнить и о влиянии синтоизма — одной из древнейших религий в Японии. Центральное понятие синтоизма — это ками, дух. По поверью, существует порядка восьми миллионов богов и духов, с которыми имеет дело верующий японец. Они обитают везде: есть дух телефона, дух воды, дух деревни, дух вот этого стула, камня. Ками незримо присутствуют среди людей, принимая участие во всем происходящем. Они буквально пронизывают окружающий мир. При этом в синтоизме нет четкой границы между миром людей и миром духов, а значит, нет и границы между живым и неживым. Поэтому в «Призраке в доспехах» столь естественно сливается воедино живое и неживое, человеческое и технологическое. Здесь человек уже неотделим от машины — они взаимно определяют и дополняют друг друга, задавая совершенно новый уровень существования. Кстати, в этом заложен ключ к японскому почти трепетному отношению к робототехнике. Ведь если даже камни наделены своим духом, тогда что уж говорить о роботах, которые обладают как минимум движением и зачатками интеллекта.
Европейцы, говоря о киборгизации, стараются следовать маклюэновскому подходу (Маршалл Маклюэн — канадский культуролог, теоретик и философ новых медиа. — Прим. ред.) — расширить понятие «телесного» вовне, насытив его кибернетическими протезами. То есть стремятся технологизировать, киборгизировать окружающее живое. А японцы движутся прямо в противоположном направлении. Они одушевляют неживое. То есть стремятся наделить внешний неживой мир человеческими свойствами и характеристиками, антропоморфизировать его. Прелесть же «Призрака в доспехах» заключается в том, что оба эти подхода — европейский и японский — сливаются здесь воедино, делая неактуальным различие «человек / машина» и преломляя его через индивидуальное сознание конкретной кибернетической сущности.
[ Антон Безмолитвенный ] Может ли нейросеть сегодня быть сочтена живым существом, обладающим сознанием, или нет? Японская культура посредством «Призрака в доспехах» в 1995 году включилась в эту дискуссию в такой яркой художественной и по-настоящему глубокой форме. Так вот, каков же ответ сегодня на эту «трудную проблему сознания»? Кратко напомню, в чем ее суть: есть материально объяснимое взаимодействие, наподобие взаимодействия синапсов в коре головного мозга. И есть так называемое феноменальное ощущение. Есть подход «от первого лица» — то, как мы реальность видим, слышим, ощущаем, то есть «собственными глазами», а также ушами, ноздрями и так далее. Есть подход «от третьего лица» — то, как этот процесс описывается наукой, нейрофизиологией. Но как быть с непростой ситуацией наличия зазора, гэпа между перспективой от первого лица и перспективой от третьего лица? Ответов множество, как минимум пять. Я не буду вас утомлять их перечислением, но суть заключается в том, что ни у одного из этих ответов нет явного очевидного преимущества перед другими. То есть наука до сих пор не в состоянии совместить эти два взгляда.
Обладает ли искусственный интеллект сознанием?
[ Антон Безмолитвенный ] Интересно, что уже в 2018 году в японских университетах защищались научные работы уровня магистра и выше на тему «Может ли искусственный интеллект быть сочтен живым существом и может ли он достичь просветления».
Главный результат этой работы заключается в том, что такая возможность [сознания у искусственного интеллекта] не исключается. Причем не исключается как буддизмом, так и технонаукой. И примечательно то, что на концептуальном уровне «Призрак в доспехах» тематизирует «призрачность» как информационную репрезентацию восприятия искусственным интеллектом самого себя. В какой-то момент у «Призрака в доспехах» выходит на первый план идея о «призрачности» существования без привязки к материальному субстрату. Вполне буддийская идея.
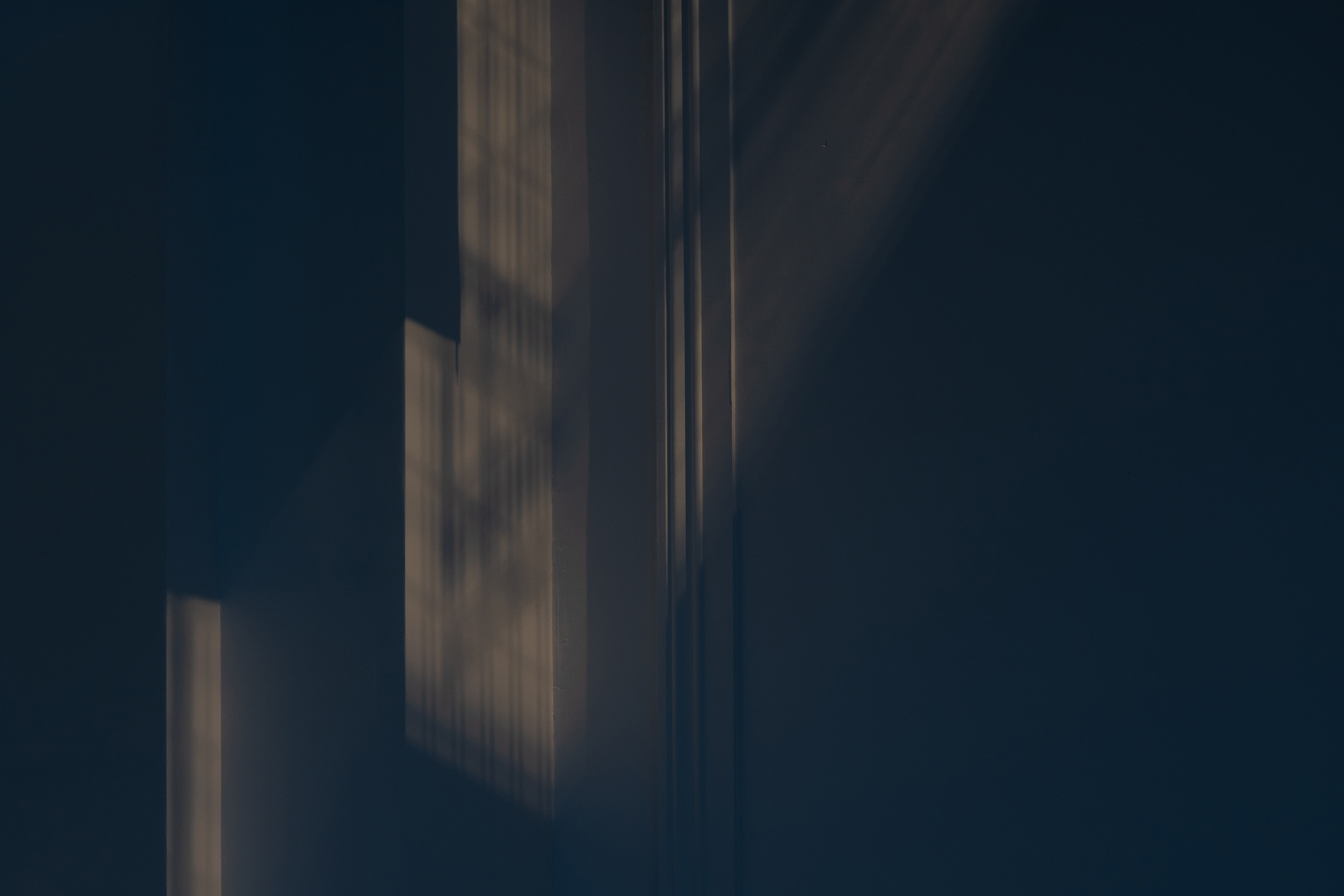
Все фото: Глеб Леонов
[ Дмитрий Булатов ] Наука и технологии прекрасно картографируют функции, относящиеся к специфическим процессам в мозгу, — память, внимание, намерение. Но эти описания не отвечают на вопрос, почему эти функции сопровождаются субъективным переживанием. Наука вам не скажет, почему удары звуковых волн о наши уши порождают наш субъективный опыт Пятой симфонии Бетховена. Это — грань, за которой начинается искусство. Если наука говорит «как», то искусство — «каково это». Режиссер «Призрака в доспехах» нам показывает тот самый [субъективный образ восприятия]. Если вы посмотрели этот фильм, то можете вспомнить, «каково это» — испытывать одиночество. Способность переживать в себе эту специфическую тоску — очень человеческое чувство, неважно, на каком материальном субстрате оно располагается. Так, по крайней мере, я считываю замысел режиссера.
[ Антон Безмолитвенный ] Киборг — это система, которая не является полностью компьютерной, полностью реализованной на нейроимплантах, но, с другой стороны, она и не является полностью органической, полностью человеческой. Это именно смешение, именно гибридная структура. Почему за ней будущее? Потому что мы уже в некотором смысле киборги, по крайней мере в смысле информационного метаболизма: многие и сегодня воспринимают телефон как вынесенную вовне часть своего мозга. Если вы вышли на работу с утра и забыли мобильный телефон, то, вероятно, ощутите что-то близкое к панике, причем, что самое интересное, эта паника будет, скорее всего, оправданна, обоснованна. Поскольку без телефона значительную часть дел сегодня просто невозможно выполнить.
Следующий шаг на пути киборгизации — это уже имплантация. Пока речь идет о том, чтобы помочь людям, которые не видят и не слышат, вернуть себе восприятие, устранить гандикап, то есть технологии пока выступают в форме нейропротезов. Безусловно, второй волной интеграции будет уже не просто протезирование свойственных человеку функций, таких как зрение или слух, а именно дополнение, аугментация, расширение тех функций, которые могут быть ему свойственны.
Какие слова помогают понять киберпанк и культуру страны, где он появился? «Ма» (間) — «пустое пространство», пауза, без которой нет дыхания. В киберпанке пустота становится символом одиночества.
«Му» (無) — «ничто», отрицание постоянного «я». Это буддийское представление прямо отражается в образах сознания без центра.
«Моно-но аварэ» (物の哀れ) — «печаль вещей», осознание красоты предметов в их хрупкости. Именно эта идея лежит в основе японской меланхолии и визуального языка жанра.
Мне импонирует то, что в «Призраке» показано условное будущее, в котором искусственный интеллект и биомеханоиды, бродящие по улицам города, давно уже стали нормой, а не исключением. При этом ученые там по-прежнему продолжают теряться в догадках, а действительно ли присуще самосознание вот этим существам или нет. То есть вполне вероятно, лет через 20 мы с вами — не в аниме, а в реальности — станем жить в ситуации, когда вокруг нас будут роботы, которые станут нас обслуживать и, возможно, даже заниматься психотерапией с нами, тем более что это уже и так происходит. А мы точно так же будем теряться в догадках, есть ли какое-то самосознание за этим экраном или нет...