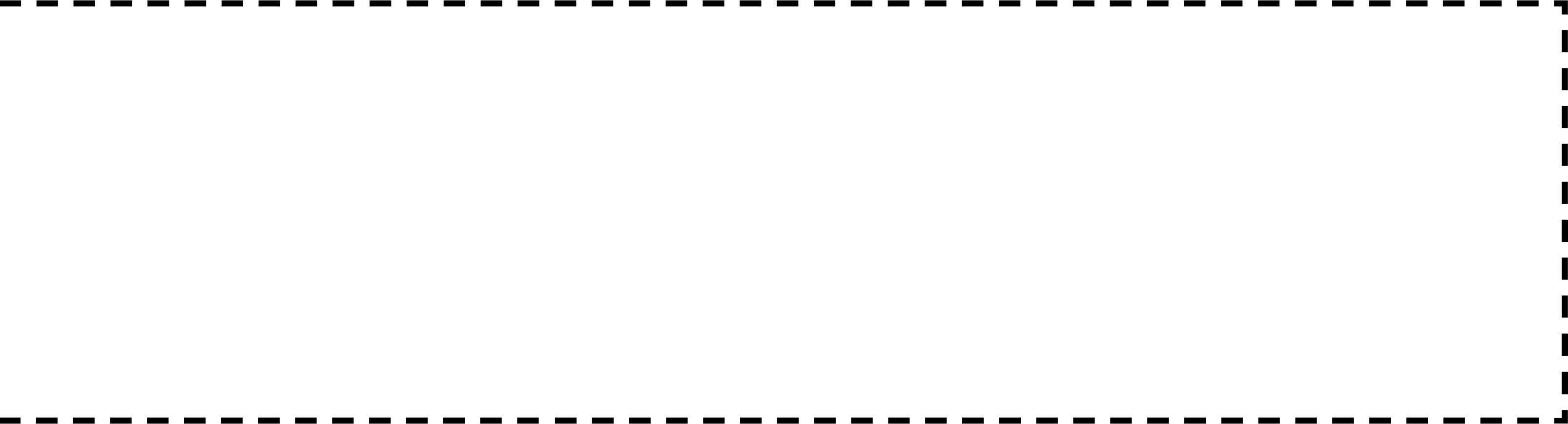
Сколько нужно людей, чтобы фильм нашел своего зрителя?
Мы привыкли думать о кинопроцессе как линейной истории, в которой одно звено следует за другим: продюсер, сценарий, режиссер, прокатная компания, фестиваль, кинотеатр и зритель. Эти элементы иногда могут меняться местами, этапы — затягиваться, но логика процесса остается неизменной. Однако не у всех фильмов такая простая судьба: пленки могут исчезать, истлевать, иногда их специально уничтожают. Некоторые картины просто незаслуженно подвергаются забвению. Кто же становится супергероем, что помогает зрителю встретиться с заслуживающим внимания фильмом?
Автор текста
Денис Рузаев — куратор кинопрограмм Дома культуры «
Фестивали
Наш фестиваль обретенных фильмов — не единственный в своем роде. В Болонье каждый год проходит фестиваль архивного кино, который так и называется — Il Cinema Retrovata, «найденное кино», то есть, по своей сути, кино обретенное. Этот фестиваль объединяет не только новые находки — в программу входят считавшиеся утерянными или спасенные фильмы, а еще и отреставрированное кино.
Восстановленный фильм тоже становится обретенным: мы наконец-то можем видеть его в состоянии, приближенном к изначальному. Пленки портятся, оцифровки бывают некачественными, далеко не все кино в принципе переводят в диджитал-формат. Еще очень многие картины оказываются забытыми, широкий зритель просто не подозревает об их существовании. Поэтому его нужно раз за разом к этому кино возвращать, напоминать о нем, чтобы произведения жили.
В этом году в «
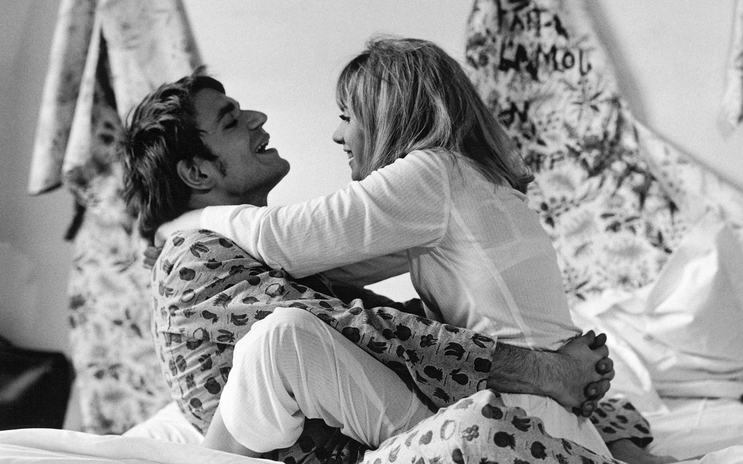
«Безумная любовь» (1969, Франция) Жака Риветта
Но возможны и разные трактовки: например, на Роттердамском фестивале есть ежегодная программа, которая также называется «Обретенное кино» — Cinema Regained. Этот заголовок более или менее совпадает с именем нашего фестиваля. За событие в Нидерландах отвечает Олаф Мюллер, один из самых известных кинокураторов мира. Он уделяет внимание новейшим реставрациям забытой классики — и в этом тоже обнаруживается сходство с нашим смотром. Так, в «
«Обретенное кино» — объемный термин, которым можно описать множество историй спасения и сохранения фильмов. Что точно не является обретенным кино? Кино голливудское, которое существует как конвейер. В таких работах редко присутствует элемент неожиданности, в нем почти нет находок, внезапных открытий. Возможность широкой интерпретации термина «обретенное кино» играет значимую роль в кинопрограмме Дома культуры: в ходе фестиваля можно увидеть дебютные фильмы молодых режиссеров, которые обретают свой голос, познакомиться с авторами, пытающимися найти свое место за рамками трендов.
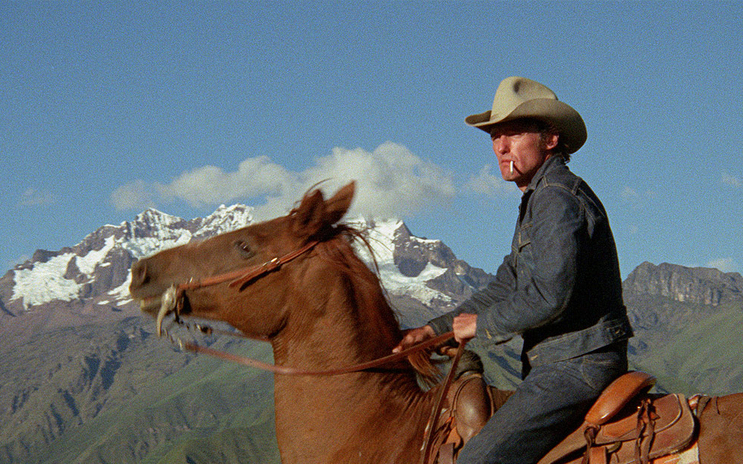
«Последний фильм» (1971, США) Денниса Хоппера
Фонды реставрации фильмов
Нам больше всего известна деятельность фондов, которые поддерживают наследие мирового кино, а также тех, что работают с финансированием нового кино, особенно в Европе. Жизнь же организаций, заточенных именно под киноархивы, не так известна — здесь уместно будет вспомнить индийский Film Heritage Foundation, благодаря которому мы сможем показать фильм Нирада Мохапатры «Мираж» (1984). Специалисты фонда с большими усилиями восстановили картину, которая рисковала кануть в забвение, являясь при этом ключевым событием в культурной жизни одного из индийских штатов — Одиши. Это был один из самых успешных фильмов в индийской истории, который был в середине 1980-х показан в конкурсе Канн. Интересно, что на этом карьера его режиссера закончилась: после триумфа он так и не снял ни одного полнометражного фильма, а пленка с «Миражом» практически истлела. Film Heritage Foundation проводил работу по ее реставрации в течение трех лет, и сейчас кино существует в состоянии, близком к идеальному.

«Мираж» (1984, Индия) Нирада Мохапатры
Для подобных инициатив бывает полезной связь с большими именами. Например, работающий с 1990-х фонд Film Foundation Мартина Скорсезе занимается наследием мирового, не европейского и не американского кино. Сам режиссер очень любит азиатскую, латиноамериканскую и африканскую классику, что, мне кажется, очень здорово: в Европе и Америке больше денег и лучше выстроена индустрия спасения фильмов. Фонд Скорсезе в год реставрирует до тридцати лент, а медийный вес основателя помогает привлечь внимание к работе. Отреставрированные картины часто оказываются в программе классики или в ретроспективных программах на больших фестивалях, перевыпускаются на большом экране. Так память об этих фильмах живет: они доходят до современных зрителей и заново ими открываются.
Один из аспектов жизни «обретенных фильмов» — их встреча со зрителем. Лента может лежать в архиве полвека, и нужны колоссальные усилия, чтобы современная публика взглянула на это кино в актуальном контексте. Не как на древнюю классику на плохой пленке, а как на самодостаточное произведение.
Критики
Оговоримся сразу: профессиональные обязанности критика предполагают, что он, прежде всего, реагирует на нечто новое. В идеале критик должен ориентироваться и в старом кино, но это требование необязательно. Я бы даже поспорил, насколько это необходимо, если человек и без того хорошо чувствует устройство фильма, может о нем интересно рассказать.
Критика — это только одна из форм киноведения. Работа в архиве — это другая форма, а написание академических статей — третья. Все эти стороны профессиональной любви к кино могут сочетаться в одном человеке — как в Науме Клеймане. К счастью, ему не обязательно реагировать на современные новинки, да и незачем — это была бы растрата его талантов и огромного багажа знаний. Работа, которой он занимается, по сохранению традиции, памяти намного важнее, потому что людей, которые посвящают себя этому, мало.
Критика, как и любая журналистика, сейчас не в лучшем состоянии с точки зрения индустрии: умирают издания, новые не то чтобы появляются, и это все требует финансовых вложений или самоотверженности профессионалов. В больших городах и в крупных кинематографических странах с этим проще, и критикам, условно, живущим в Нью-Йорке, доводится писать об отреставрированном кино, которое выходит на экраны или появляется на стримингах.
Архивы

«Мой сын» (1928, СССР) Евгения Червякова
Сотрудники архивов активно занимаются сохранением фильмов по всему миру — они заботятся о физических условиях хранения пленок. Но мало кто знает об удивительных находках, которые можно сделать в подобных собраниях, — примеры представлены на нашем фестивале. Иногда это совсем неожиданные истории, когда потерянный фильм находится на другом конце света. Это случай фильма «Мой сын» (1928), который мы показываем спустя восемьдесят лет после его исчезновения в годы Второй мировой войны. Фильм родом из 1920-х был найден в Аргентине под другим названием, не полностью — только пять из семи катушек. Никто в принципе не подозревал, что в архиве могут храниться советские фильмы, а тем более столь важная для конца эпохи картина, которую многие европейские звезды, как, например, датская актриса Аста Нильсен, называли лучшим фильмом года.
Пленки истлевают, и каждый год мы теряем невообразимое число картин. Но феномен забвения в мире кино гораздо шире и страшнее плохих условий хранения: истлевший и забытый фильмы по сути ничем не отличаются — ведь в обоих случаях их никто не смотрит. Архивистам необходимо проделать серьезную и важную работу, чтобы фильмы оставались в памяти поколений. Было бы прекрасно, если бы в этих институциях были не только сотрудники, следящие за состоянием пленок, но и специалисты, которые бы описывали и осмысляли произведения. Хотелось бы, чтобы у каждого архива были и своя синематека, и свой кинотеатр.
Режиссеры
Один из путей спасения утерянного кино — переснять его заново на основе оставшихся крох информации. Так случилось с нашей премьерой, «Смертью Дракулы» (2025). В этом случае единственное, что осталось от потерянного фильма, — это написанный на его основе роман. Неизвестно, насколько точно в книге задокументирована лента: вполне возможно, автор позволил себе вольности, не следовал за картиной след в след.

Фильмов, что утеряны навсегда, достаточно много. С архивами регулярно случаются трагедии — они горят. Несколько лет назад в пожаре погибла большая часть киноархива Бразилии, где хранились не только шедевры игрового национального кино, но и множество образовательных лент, индустриальных хроник. В Советском Союзе существовал огромный пласт производственных архивов, например, документировавших жизнь завода и его рабочих. Эти пленки в 1990-х могли быть выброшены или уничтожены. В лучшем случае то, что осталось от этих архивов, — описи.
«Смерть Дракулы» (2025, Румыния–Венгрия–Франция) Аттилы Гёдри, Дьепара Бузаши, Флоры Ковач и др.
Интересно, что в результате получился проект, который живет в двух временах: он снят на 16-миллиметровую кинопленку, но на оригинальную камеру. Актеры стараются копировать стиль немого кино, театральность и преувеличенность эмоций, но при этом не делают вид, что играют в фильме 1920-х. Для режиссера максимальная имитация не была целью — это современный фильм, пускай и приближенный к оригинальному произведению. Получился и обаятельный эксперимент, и кино, которое можно смотреть, не зная его предыстории, — просто получить удовольствие от необычного сюжета и нетипичной интерпретации канонической темы.